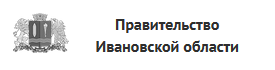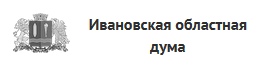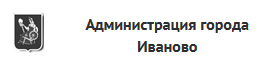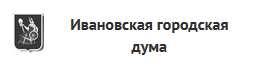Ветеран пришел в газету

Ветеран Великой Отечественной Николай Петрович Тимофеев в свои 94 года (!) до сих пор крепок и телосложением, и умом, спокоен и рассудителен. Он сам пришел в редакцию нашей газеты, и не от нечего делать, а с хорошей идеей.
Летом на празднике «Открытое небо» он увидел показательные выступления военных, которые демонстрировали спуск из самолета боевой техники на парашютах. Николай Петрович в сороковые года после войны был свидетелем первого такого спуска. Правда, неудачного. Захотел рассказать об этом, вдруг кого– то заинтересует исторический эпизод. Нам же стала интересна и сама жизнь этого человека, и его война. И вот я напросилась к Николаю Петровичу в гости.
Война не снится
Мы беседуем в аккуратной комнате у стола с современным компьютером, на столе много рукописных тетрадей и книг, в том числе и на немецком.
– Николай Петрович, почему немецкий?
– Изучаю. В молодости не успел, ни в школе, ни в военном училище, так вот решил догнать. Сейчас уже читаю в оригинале классику, но приходится часто и к словарю обращаться, и в Интернет, надо кое-что по грамматике подучить.
– Освоили компьютер, Интернетом пользуетесь?
– Конечно, как и все. Я тут недавно познакомился с женщинами из совета ветеранов Октябрьского района. Они, бедные, ютились в одном офисе, где у них бумаги стопками складывались на каких-то полках немыслимых, ужас! Я подумал, надо у них благоустроить всё. Построил своими руками стеллажи, перегородочки красивые, купил им компьютер, принтер. Теперь у них порядок и в помещении, и в документах.
– На свои деньги купили всё?
– Да, им же нужно, а денег-то у них нет. А мне пенсии хватает. Мы с ними теперь дружим, приглашают поработать, и я регулярно у них появляюсь, ветеранских забот много.
– Николай Петрович, война закончилась почти 75 лет назад, вы кем себя больше ощущаете – ветераном или гражданским человеком?
– Да, хороший вопрос. Меня призвали на Южный фронт в декабре 42-го, когда мне исполнилось 17 лет. Воевал, позже учился в военном училище. После войны служил офицером в различных частях по всей стране. А потом – гражданка (грузчик, шофер, автослесарь, преподаватель техникума и даже начальник ГАИ). Далеко не сразу стали вспоминать и чтить участников войны: появились льготы, пенсия ветеранская и прочее. А раньше-то большинство были ветеранами. Считалось, что родину защитить – это не подвиг, а долг. Вот кто я больше: ветеран или гражданский, если почти 50 лет уже не служу?
– Но вот говорят, что война никогда не забудется...
– Нет, не забудется. Но она закончилась, и у меня внутри тоже. Давно уже не снится, и у меня давно уже будни и праздники обычной мирной жизни, в которой было всякое. Но о войне я, конечно, всё прекрасно помню.
Минеров учили молчать
– Самое яркое, что всплывает в памяти?
– Как ни странно, первая бомбардировка. Это было летом 41-го на юге, тогда мы жили в Ростовской области. Не забуду, как я упал на землю в открытой степи, как рядом метались люди, скот, тут же грохот, кровь, ужас сковывал… Потом, конечно, на фронте, куда меня призвали, тоже было страшно. Но те первые обстрелы не забуду.
В начале 43-го нас, несмышленых новобранцев, зачислили в отдельный минно-саперный батальон. Так я стал минером и взрывником. Это было на линии фронта в Луганской области. Я попал в инженерно-саперный батальон штурмовой бригады. Самая что ни на есть передовая. Учились мы у старших товарищей, которые пришли на наш фронт после Сталинградской битвы. Они были опытные, такие герои, наши отцы, мы так их и называли. Главный закон сапера знают все – он ошибается только один раз в жизни. А сколько в моих руках было этих взрывателей, сколько мин, взрывчатки... Каждую минуту – риск.
При этом мою работу никто не должен видеть. Немец тем более. Мины ставятся тайно, проходы между ними тоже. Ведь мы работали на нейтральной линии. Помню, с сержантом займем какую-нибудь воронку и просто дежурим. А фашисты постоянно стреляют из пулеметов в нашу сторону, а то заряд мин пустят, боеприпасов они не жалели. Потом наши дают сигнал отходить, возвращаемся назад, примерно с километр от передовой, установив мины. Вот так и работали.
– И разминировать же приходилось?
– Конечно. Так же и свои, и немецкие мины. На животе ползешь, снег, грязь, в руках кусок проволоки. Вот так прощупываем, не наткнемся ли на мину. Самым примитивным образом. Никаких миноискателей не было, простой щуп. В кармане пассатижи, на поясе веревка с кошкой (крючок из проволоки) и малая лопатка. В случае если мина найдена, ее нужно руками откопать, найти ручку, зацепить… А были еще мины-сюрпризы, в которых кроме основного взрывателя, срабатывающего от наезда танка, был еще другой, на веревочке. Если сапер начнет ее тянуть, она взрывается. И всё – ты погиб. А кошечкой захватишь, подтянешь, если нет взрыва – значит все нормально. Иди, снимай взрыватель, выводи из боевого состояния, и дальше – опять на животе к следующей мине.
– Вы хоть примерно можете прикинуть, сколько обезвредили мин?
– Ой, кто же их считал, сотни – тысячи... Остаться бы живым. Немец постоянно стреляет, светит прожекторами. А ты затаись и шевелись так, чтобы не увидел никто ничего. Вот в чем было наше искусство. А пока мы не пройдем – ни один танк не тронется с места, ни один автомобиль. Только после нас, и орудия потащат, и пехота пойдет. Никакого наступления без саперов. В этом была наша война. В этом.
– Было такое, что у вас на глазах кто-то из товарищей ошибался при разминировании?
– Нет, никогда при мне не было такого. Повезло. С нами были старшие товарищи. Они, большие специалисты, учили всему: и военному делу, и выживанию. Говорили: «Солдат, знай свой маневр». Это еще суворовское. Никогда не узнавай ни у кого его задачу. Тебя же могут и немцы захватить, и лучше, если ты будешь знать минимум или вообще ничего. И не болтай. Чем язык короче, тем жизнь длиннее. Вот такой закон на фронте. Это, кстати, мне пригодилось позже и в гражданской жизни.
Парад Победы тогда и уходящая натура сейчас
– А когда для вас закончилась война?
– Я дослужился до командира отделения. И наш батальон вывезли с фронта под Москву, меня послали учиться в военное инженерное училище. И пока я учился, война закончилась. Мне довелось 24 июня 1945 года участвовать на Красной площади в том знаменитом Параде Победы. Помню, как мы к нему готовились, как из нашего училища сформировали два батальона по 200 человек, как мы маршировали каждый день, радостно, без какого-то принуждения. А накануне к нам на репетицию приехали Жуков и Рокоссовский, в полевой форме, на лошадях, поздравили нас, поблагодарили за службу. Это было так всё торжественно. Хоть мы и были курсантами училища, но всё же большинство – фронтовики. И пусть воевали недолго (я на передовой был только полгода), я не считаю себя лишним на том великом параде.
Недавно в Иванове был открыт памятник изобретателю ранцевого парашюта Глебу Котельникову. Его инициатором была директор Ивановского парашютного завода «Полёт» Юлия Портнова. И на открытии памятника я рассказала ей о Николае Петровиче Тимофееве, о его желании поделиться воспоминаниями об испытаниях первого грузового военного парашюта. И она поддержала: «Да, это очень хорошая идея. Ветеранов становится всё меньше, и надо ловить моменты уходящей натуры. Мы свяжемся с ним».
Самые читаемые статьи

Учеба после учебы
Зачем идут к репетиторам и что получают

Круглогодичный призыв
И другие изменения для новобранцев

Законодательные нововведения для СНТ
Что изменится для ивановских дачников?

Когда наука спасает сердца
Молодой ученый ИвГМУ бросает вызов ревматоидному артриту