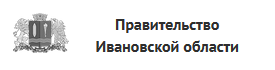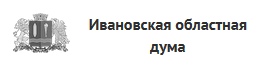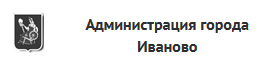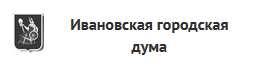Благовещание Дмитрия Семёновского

В последующем это произведение не публиковалось, что можно объяснить, во-первых, недостаточно высоким художественным уровнем текста; а во-вторых, неоднозначным для советской литературы содержанием.
Не по Писанию
В «Благовещании» повествуется о рождении в фабричном городе (не названном, но по описаниям похожем на Иваново-Вознесенск) ребенка, провозгласившего себя впоследствии Христом. Поэма явно апеллирует к Священному писанию, которое Семёновский, бывший семинарист и сын священника, не мог не знать в деталях. В этой связи странными кажутся уже строки первого четверостишия поэмы: «Падшая девица мальчика родила/ В тесном углу на зашарканном полу». Известно апокрифическое предсказание, что от падшей девицы должен родиться Антихрист – Иисус же рожден от непорочной девы. Вразрез с историей о Рождестве идет и дальнейшее содержание поэмы:
Не взывали ангелы в бездне эфирной,
На текстильном небе не всполохнула звезда
И волхвы с ливаном, золотом и смирной
Не пришли сюда.
Герой с рождения остается один – мать погибает в родах, его в постоянной нужде и обиде растит жестокий фабричный город. Повзрослев, юноша провозглашает себя Миссией:
– О, братья-люди! Близок час:
Я буду вновь заклан за вас.
Уже секира при корнях,
Жених в чертоге при дверях!
Всё бремя мира, боль и тьму
Я на плеча свои приму.
После этой реплики Христом именует своего героя и Дм. Семёновский. Однако автор дает понять, что не верит в его божественное происхождение – «проскальзывает» строчка: «и с грустной улыбкой человеческий сын / Утомленно ложится на жестком одре»; в тексте не раз подчеркивается, что ребенок рожден и растет под небом без звезд – притом что звезда традиционно считается одним из символов библейского Рождества и Благовещенья.
Заповеди блаженства
Кульминационными в поэме следует считать следующие строчки, вложенные в уста главного героя:
– Я пастырь и рыбарь, я – царь, я – Христос,
Я в мир золотые заветы принес…
Блаженны алчущие,
Блаженны жаждущие,
Блаженны плачущие,
Блаженны страждущие,
Блаженны те, кто наг и сир, –
Они приобретают весь мир!..
Вероятно, это – переложение знаменитых заповедей блаженства, произнесенных новозаветным Иисусом во время Нагорной проповеди. Но поэтические строчки Семёновского повторяют лишь две из девяти заповедей: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» и «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Остальные заповеди поэт исключает – возможно, потому, что в них дается обещание «небесной благодати». А для Семёновского важно подчеркнуть, что новый Мессия предлагает приобрести именно мирское благополучие – вещное и земное. («Выпадает» из нашей теории только библейская заповедь: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».)
В конце поэмы главный герой оказывается в сумасшедшем доме: «Он колпаком своим потряс/ И в бешеный пустился пляс», – на этом повествование заканчивается. Непонятным остается замысел, авторская позиция. Кажется, Д. Семёновский сам в полной мере не может понять мотивацию, вызвавшую поэму. Складывается противоречивое ощущение, что автор сочувствует своему герою (и пробуждает это чувство у читателя), но вместе с тем последовательно рисует отталкивающий образ антихриста.
Толкование
Учитывая исторический контекст, можно провести следующую параллель. «Весь мир» в 1920-е годы приобретает страждущий пролетариат (классово чуждый поэту) – выросший, как герой поэмы, в нужде, живущий под аккомпанемент фабричных гудков, видевший цветы (в отличие от крестьян) лишь на ободранных обоях. И вот эта новая сила приходит к власти – и утверждает, что спасет человечество, создаст новый мир. В словах героя Семёновского можно найти не только библейские цитаты, но и отсылку к главной революционной песне «Интернационал»: «Разрушьте сей телесный храм,/ И я в три дня его создам…»
Поэт подспудно или неосознанно показывает свое противоречивое отношение к этим «алчущим/ жаждущим, плачущим/ страждущим» – к пролетариату, провозгласившему себя Спасителем; предлагающему всё разрушить, а затем построить новый мир. С одной стороны, автору страшно не признать, отправить в психлечебницу настоящего нового Бога. А с другой – слишком сильны подозрения, что новые герои – от лукавого, дети антихриста.
Параллели: литературные и художественные
Поэма Семёновского – своеобразный ответ (реплика) на поэму А. Блока «Двенадцать»: выбран только другой библейский сюжет и иная топика. Если у Блока во главе революционного отряда «в белом венчике из роз» шествует Иисус Христос; то по замыслу Семёновского красным знаменем над головами страждущих вполне может быть «багряница с тонких плеч Страстотерпца Христа» (см. стихотворение Д. Семёновского «Священник-большевик»).
Обратим внимание на еще одну возможную перекличку между текстом поэмы «Благовещание», православной традицией и ивановскими реалиями. Одним из иконографических символов Благовещенья является прялка или веретено с красной нитью в руках у Марии, ее служанок или просто в интерьере. (Характерна православная икона начала XII века, хранящаяся в Третьяковской галерее, – «Устюжское Благовещенье»). Существует несколько трактовок «ткацкого» символа – но для нас в данном случае важно лишь обозначить его потенциальную связь с ивановским текстом культуры. В 1919 году местным художником И.Н. Нефедовым был предложен герб Иваново-Вознесенской губернии, включавший изображение девушки (которая может восприниматься как «богиня») с прялкой. В эскизе, как и в «Устюжском благовещении», преобладают красный, белый и зеленый цвета. В верхней части церковной иконы – круг, в котором изображен Бог-отец; на рисунке Нефедова круг, стилизованный под шестеренку ткацкого станка – внизу; внутри его, на фоне белого креста, – красный треугольник. Получившаяся эмблема напоминает всевидящее око.
На некоторых вариантах иконы «Благовещение» сошествие ангела изображается на фоне городского пейзажа. В гербе Нефедова за спиной девушки – панорама Иванова: фабричные корпуса, дымовые трубы и один возвышающийся купол-луковка – но не с крестом, а с развевающимся знаменем. Этот «проект герба был одобрен даже художественным советом при губисполкоме. Однако из-за начавшейся Гражданской войны дело не было доведено до конца, и губерния так и осталась без герба».
Муки разочарования
Безусловно, в связке с поэмой «Благовещание» необходимо воспринимать и некоторые другие стихотворения Д.Н. Семёновского (они могут прояснить авторскую позицию). Например, в стихотворении «Светопредставление» (1921) – звучит мысль, что послереволюционный хаос («в перезвоны, гул и крики/ брошена оглохшая улица») – преддверие апокалипсиса – конца света и второго явления Спасителя. Но перед тем, как «сам Христос пройдет по облачной стезе», – «антихристова конница понесется от закатной стороны/ Кто Спасителю поклонится,/ Будет пытан палачами сатаны».
Противоречивую природу сборника «Благовещание» Л.Н. Таганов объясняет «разладом [поэта] с действительностью, которая все дальше отходила от «гармонии». Через социальную, классовую подоплеку объясняет «муки разочарований и муки искания <…> эту неуверенность поэтического голоса» в рецензии 1923 г. и П.А. Журов – близкий друг поэта: «Он [Семёновский] выродок, он изгой своего (духовного) сословия <…>, он не пролетарий, не крестьянин, он – та социальная частица, которая несется на гребне чужой волны и беспомощно озирается на окрестные, столь же чужие ей, волны».
И хоть звучат упреки П.А. Журова слишком штампованно и в духе своего времени – думается, что рецензент (который сам не был ни пролетарием, ни крестьянином) разглядел истинные причины дисгармонии сборника «Благовещание». Семёновский, вероятно, с трудом принял после революции пролетарскую гегемонию.
По материалам диссертации «Формирование локального текста: Ивановский опыт» (Иваново, 2014).

Самые читаемые статьи

Учеба после учебы
Зачем идут к репетиторам и что получают

Круглогодичный призыв
И другие изменения для новобранцев

Законодательные нововведения для СНТ
Что изменится для ивановских дачников?

Когда наука спасает сердца
Молодой ученый ИвГМУ бросает вызов ревматоидному артриту