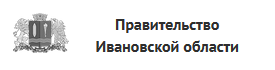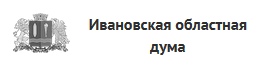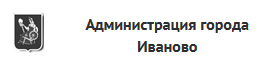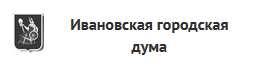Первый ивановский арт-путеводитель

Продолжение. Начало в № 27, 28, 30, 32, 34 за 2019 год; в № 22 за 2020 год
Сегодня на нашем маршруте несколько литературных адресов, а также история об ивановских корнях советского телевизора «Горизонт». В прошлый раз мы расстались у гостиницы «Турист», продолжаем прогулку вверх по ул. Калинина.
Дочь привратника
В краснокирпичном особняке на пересечении с ул. 8 Марта сейчас работает поликлиника. Прежде здесь квартировали спортивная и общеобразовательная школы, частная женская гимназия. Построено здание в начале ХХ века для химика-технолога Леонида Александровича Остроумова. Он первым во всей Владимирской губернии стал производить асфальт, на этом и разбогател. К слову, иудейскую смолу (так называли раньше асфальт) укладывали поначалу не на дороги, а внутри фабричных построек. Кроме того, контора Остроумова производила разноцветную плитку (метлахскую) для церковных полов. Можно только предполагать, сколько храмов Владимирской губернии украшено иваново-вознесенской фирмой. Надо отдать должное, что разбогатевший химик много занимался и благотворительностью.
В 1906 году в особняке Остроумова открылась первая в нашем городе частная женская гимназия Марии Крамаревской. Интересно, что родная сестра директрисы в то же время возглавляла аналогичное казенное учреждение. Но частная школа быстро стала более востребованной – к Крамаревской стремились отдать своих дочек ивановские богатеи. Правда, благодаря финансовой помощи от местных властей и шуйского земства, здесь также могли учиться одаренные девочки из малообеспеченных семей.
Привратником в гимназии служил Александр Барков – «дядя Саша», как звали его ученицы. Жил он тут же, вместе с женой и единственной дочерью Анной. Именно из-за этой девочки – с огненно-рыжей шевелюрой – мы сегодня и говорим о ее родителе, учителях и учебном заведении.
Анна Баркова, окончившая гимназию Крамаревской, стала одной из самых ярких, но при этом безвестных русских поэтесс ХХ века. Это сейчас про нее сняли фильм в Чехии, написали диссертации в Англии и в Италии, выпустили книгу во Франции. А при жизни про Баркову забыли почти на полвека.
В 1922-м Баркова переехала из Иваново-Вознесенска в Москву. В тот же год вышел единственный сборник ее стихов, восторженно встреченный критикой. А потом «гимназией жизни» для поэтессы были сталинские лагеря. Три ходки (последняя уже при Хрущеве) по политической статье перечеркнули 23 года.
В начале 1970-х ранние стихи Барковой случайно обнаружил доцент Ивановского пединститута Леонид Таганов, заинтересовался ими. Он разыскал поэтессу в Москве, стал первым ее публикатором и исследователем творчества. Воспоминания профессора Л.Н. Таганова о Барковой можно найти в интернете. В городских библиотеках хранится художественно-публицистическая биография «Прости мою ночную душу» (Иваново, 1993). А песни на стихи Барковой рекомендую послушать в исполнении Елены Фроловой – их несложно найти в сети. На стене бывшего дома Остроумова установлена мемориальная доска: в память о гимназии Крамаревской и самой известной ее выпускнице.
Я – в монгольской неистовой лихости,
Моя песнь – раздражающий стон,
Преисполненный зноя и дикости
Незапамятных страшных времен.
Анна Баркова (1901–1976)
Романтик-боксер
Напротив находится один из корпусов политехнического университета. Здание, построенное в 1931 году, изначально предназначалось для образовательных целей. Менялись только вывески над входом. Сначала здесь был строительный техникум, потом индустриальный, в последние десятилетия – строительный институт (он же академия и университет).
В 1930-е в этом здании учился Алексей Лебедев. В объединенной базе данных Министерства обороны (obd-memorial.ru) можно найти карточку о его гибели в ноябре 1941 года. Сверху на пожелтевшем документе карандашом приписано «поэт-моренист». Понятно, что во втором слове допущены ошибки. Но они объяснимы и логичны. Стихи молодого лейтенанта Лебедева переписывались матросами Балтийского флота из тетрадки в тетрадку, их знали наизусть. Эти поэтические строчки – про честную романтику моря, про прямую мужскую искренность. Потому ошибочное слово «моренист» подходит Лебедеву даже больше, чем французистое и искусствоведческое «маринист».
Родился Лебедев вдалеке от побережья – в Суздале, затем жил и учился в Иванове. Но какой мальчишка, начитавшись Жюля Верна и Стивенсона, не хочет почувствовать на зубах морскую соль. Флотская карьера Лебедева и его стихи – из книжек про пиратов, из детских романтических представлений.
Казалось бы, военная служба из любого поэта должна сделать рядового, но Лебедеву удавалось сохранять нетривиальный образ мысли и высокий литературный слог даже в обыденной жизни (можно прочитать его сохранившиеся письма к матери и к возлюбленной в Иваново).
Рассказывают, поэт не выпускал изо рта трубку. Но, думаю, не потому, что он настолько был зависим от табака – просто так подобало выглядеть настоящему морскому волку. К тому же «пиратский» аксессуар Лебедеву подарил не кто-нибудь, а писатель Борис Лавренёв – автор самой романтической повести о Гражданской войне.
Подводная лодка, на которой служил лейтенант Алексей Лебедев, подорвалась на мине в ноябре 1941 года. В уже упомянутом донесении о гибели указано и место захоронения поэта. В соответствующей графе значится «предан морю».
В Суздале поэту Лебедеву не так давно поставили памятник в полный рост, в ивановском сквере есть гранитный бюст. А в литературном музее ИвГУ хранятся боксерские перчатки Алексея Лебедева. Говорят, что во время учебы в индустриальном техникуме, он преуспел именно в этом виде спорта.
Небритые, пропахшие соляром,
В тельняшках, что за раз не отстирать,
Мы твердо знали, что врагам задаром
Не удалось у нас в морях гулять.
Алексей Лебедев (1912–1941)
Из числа послевоенных выпускников индустриального техникума назову лишь Героя Социалистического Труда Виталия Калинкина (он уроженец Ильинского района). Получив диплом, он работал в Белоруссии, возглавлял предприятие «Транзистор». Именно при Калинкине был налажен выпуск первого массового советского телевизора «Горизонт».
Автор «Ситцевого царства»
По улице 8 Марта мы сегодня не пойдем, но бросим взгляд в сторону «Серебряного города». Когда-то здесь стояли краснокирпичные корпуса фабрики Гандурина, где в начале прошлого века конторщиком служил Иван Андрианович Волков.
Он выпускал нелегальный рукописный журнал, во «Владимирской газете» публиковал сатирические зарисовки о фабрикантах. Но особенно востребован писательский талант Волкова оказался после революции. Краевед выпустил несколько книжек, обличающих иваново-вознесенских предпринимателей. Черной краской вымазаны в ней и Бурылины, и Дербеневы, и, кажется, вообще все дореволюционные ивановские миллионеры. Факты, которые описывает Волков, и правда заставляют содрогаться от мерзости «Ситцевого царства» (так, кстати, называется главная его книга). Но насколько им можно доверять? С одной стороны, эти разоблачения печатались в 1920-е годы, когда были живы те, кто застал старые порядки, а соответственно, мог бы возразить краеведу. Но с другой – многие ли способны были поднять тогда голос в защиту бывших фабрикантов-эксплуататоров. Книжек Волкова пока нет в интернете, но в библиотеке их любопытно взять почитать.
«Тускл и удушлив воздух от смрадного дыхания города-зверя; целый день висит над фабричным городом тяжелая, черно-сизая пелена дыма и копоти. А когда придет вечер и бросит на землю темное покрывало ранних зимних сумерек, тысячами огненных глаз засверкает тогда в потемках фабричный город и, как сказочный дракон, начнет дышать в почерневшее небо кровавым заревом огромного пожара».
Иван Волков (1880–1968)
Продолжение следует.
Автор иллюстрации – Ксения Новикова
Самые читаемые статьи

Open теперь закроют
За иностранные слова бизнес начнут штрафовать. Рейд по ивановскому общепиту

Прописка на даче
Вступили в силу новые правила регистрации по месту жительства в СНТ

Как попасть на бал
Давняя традиция февраля – балы

Он слушал весь мир
Cначала как радист военного самолета, а теперь – как радиолюбитель.