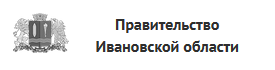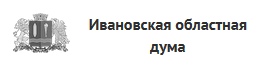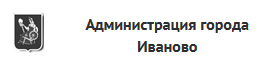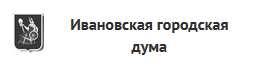Компенсация от судьбы

Старые газетные подшивки интересно лишь просматривать, выбирая взглядом отдельные фотографии или факты. А вот читать от начала до конца сами публикации – занятие не из веселых. Все– таки репортерский язык не предназначен для вечности.
Вдвойне скучно читать пожелтевшие полосы, если ты молод. Однако в университете у студентов– журналистов есть такая повинность. В списке обязательных материалов для изучения и очерки про текстильщиков Павла Белова, бывшего журналиста «Рабочего края».
Его герои
Надо признать, что для студентов имена Зои Пуховой, Елены Амосовой, Валентины Голубевой и других знатных текстильщиц, о которых часто писала наша газета раньше – пустой звук. Да и особого уважения к людям труда в обществе уже нет. Однако очерки Павла Белова «заходят» – студенты их с интересом читают и обсуждают, сопереживают героям. Говорю об этом в сравнении, видя, что тексты многих других грандов журналистики (не только региональной, но и всесоюзной) подчас не вызывают в аудитории никакого отклика.
Павел Белов показывал своих героев без патетической трескотни. Умея одной деталью раскрыть сущность человека и ситуации. Например, в очерке о Таисии Шувандиной автор неслучайно рассказывает о том, как долго искал ее дом, будучи приглашенным на интервью:
«Плутая по Завокзальным, представил, как день за днем и год за годом добиралась Таисия Ивановна «в город» на своих на двоих – общественный транспорт пробился в местечко поздно. И не было случая, чтобы хоть на минуту опоздала к смене, обожглась стыдом».
Формулировку «обожглась стыдом» студенты всегда выделяют из текста. Может быть, потому, что сами опаздывают на университетские занятия без всяких переживаний. Запоминается и концовка этого материала про старую ткачиху:
«Разговор с Шувандиной получился, как всегда, увлекательный, полный интересных примеров и частностей, из которых ткется жизнь. А потом захотелось послушать соседей. На лавочке перед одним из домов сидела пожилая женщина. Подошел.
– <...> Она и землемер, и милиционер, а то и судья местный. Со всем к Таисье Ивановне тянемся, как будто у нее своих забот мало. Старуха уж, а с головой. Высоко взлететь могла, если б в молодости грамоты набралась. Жаль, злая напасть Таисию Ивановну долго точила...
– Это вы о чем?
– Да всё о том же – о беде многих русских баб. Мужик был пьяницей.
В то мгновение и открылось мне впервые, отчего человеколюбивая Шувандина выглядела нередко замкнутой и хмурой. Лично я ни разу не видел, чтоб она смеялась. Не могли не царапать чуткую, совестливую Таисию Ивановну мысли о возможных попреках: других, мол, учишь, а своего муженька не образумила...»
Эту историю Павел Белов приводит ни ради привлекательного «желтого» оттенка. Напротив, он поднимает свою героиню – показывает ее силу, несмотря на обстоятельства судьбы.
Отнятые годы
Материалы рабкраевца добротно сделаны с профессиональной точки зрения: чувствуется, что автор не раз и не пять встречался со своими героями, прежде чем написать о них. Видно, как он подбирает слова (не случайно, например, в процитированном отрывке про ткачиху присутствует выражение «ткется жизнь»). Но главное – в публикациях Павла Белова слышится особая интонация, присущая доверительному искреннему разговору. Ведь любому читателю нравится, когда с ним общаются уважительно, без спешки, всерьез. Когда не назидают, а делятся чем-то интересным, по-настоящему достойным.
Наверное, жизнь оставляет свои отпечатки не только на лице человека, но и на авторском стиле, если речь идет про литератора. В биографии Павла Белова было то, что не могло пройти бесследно. Десять лет журналист провел в сталинских лагерях.
«У каждого заключенного [лагерь] был «свой», каждый пережил ему предназначенное. Он не всех убил, но всех унизил, обокрал, искалечил духовно», – напишет про себя и свое поколение Павел Федорович. В 1956-м, через два года после освобождения, он получил справку: «Приговор Военного трибунала Ивановского гарнизона от 20 ноября 1944 года в отношении Белова П.Ф. отменен, и дело о нем прекращено за отсутствием состава преступления». К счастью, дальнейшая судьба была благосклонна и, кажется, даже попыталась компенсировать отнятые годы. Павел Белов стал одним из ведущих журналистов областной газеты, публиковался в центральной прессе. Он не дожил до своего столетия (оно приходится на 30 декабря этого года) всего пять лет.
Но неужели лагерный срок можно чем-то компенсировать? Трудно представить, как бы сложилась жизнь Павла Белова без того несправедливого приговора. Ведь к 22 годам он, простой парень из приволжской деревни, смог поступить в ленинградский институт журналистики, печатался в республиканских газетах, был кандидатом в члены партии. Но в один момент всё это оказалось оболганным.
В автобиографии Павел Белов с горечью напишет: «Меня арестовали в неполных двадцать три года. Я попал в тюрьму недоучившимся студентом, в самое избранное для развития ума и души время, когда память остра и впитывает новизну с неутоленной жаждой. Десять лет – без книг, без возможности заниматься самообразованием, общаться в нормальных условиях с нормальными людьми... Лагерь укоротил радость познания для всей рати заключенных, многих непоправимо ожесточил. Это значит, что мы не состоялись сполна как работники, отцы, граждане Отечества. Сколько на том потеряла страна и после того, как сталинские лагеря заросли бурьяном и чертополохом...»
Остались книги
Ивановский журналист Андрей Гладунюк, работавший в конце 1980-х вместе с Павлом Беловым в «Рабочем крае», вспоминает: «Он очень немного рассказывал про десять лет, проведенные в лагере. Но если говорил об этом – то очень достойно, по-мужски. Запомнилось с его слов, что, когда в лагере узнали о смерти Сталина, все кричали «ура» и бросали вверх шапки. Ближе к 1990-м он показал мне документ, который ему выдали в КГБ. Я был удивлен самим его видом – это то ли страничка, то ли две чуть ли не из школьной тетради. Очень короткие фразы: «За восхваление врага народа Косарева и за очернение колхозного строя Белова Павла Фёдоровича расстрелять. Но принимая во внимание его прошлое [он в годы войны обучал курсантов], заменить 10 годами лагерей».
Коллеги П.Ф. Белова по газетной работе отмечают его доброжелательность, профессионализм. Игорь Антонов поделился: «Я работал в сельхозотделе, а Павел Федорович заведовал промышленным. И внутри редакции были всё время соревнования. Как правило, побеждал Павел Федорович. Он брал глубиной своих материалов, знанием темы, и конечно стилем изложения. Мало, кто в газете так владел словом».
А еще по воспоминаниям рабкраевцев, Павел Белов был ярым футбольным болельщиком и заядлым грибником. Даже когда ему было за 80 не сидел без дела: выпустил несколько книг и считал правильным каждое утро выйти во двор своего многоэтажного дома на Садовой и помочь дворнику: расчистить снег или подмести листву. Всё это показательные детали. Но главное – это публикации Павла Федоровича, которые и сегодня читают с интересом.
Остается добавить, что воспоминания Павла Белова о Гулаге можно найти на интернет– сайте центра Сахарова. А его книги («Проспект Текстильщиков», «Честь и верность», «Тернии и звезды. Повествование о Василевских», «Все ураганы в лицо. Маршалы и генералы Великой Отечественной войны – наши земляки») доступны и востребованы в библиотеках.
Самые читаемые статьи

Open теперь закроют
За иностранные слова бизнес начнут штрафовать. Рейд по ивановскому общепиту

Прописка на даче
Вступили в силу новые правила регистрации по месту жительства в СНТ

Как попасть на бал
Давняя традиция февраля – балы

Он слушал весь мир
Cначала как радист военного самолета, а теперь – как радиолюбитель.